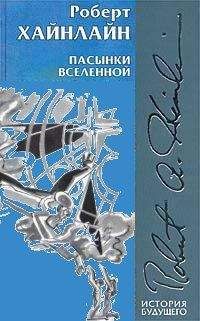— Вы что, серьезно думаете, что предпочли бы подобную работу своему нынешнему положению?
— Не знаю. То, чем я занимаюсь, тоже неплохо, все-таки король. Рабочий день недолог, а плата сравнительно хорошая. Да и застрахован я вполне удовлетворительно, если не принимать во внимание возможность революции, хотя моя династия всегда была на них везучая. Но большая часть того, что я должен делать — скучно, с этим справился бы любой второсортный актер.
Он взглянул на меня.
— Я избавляю тебя от множества утомительных и скучных церемониальных обязанностей. По крайней мере стараюсь. Сам знаешь.
— Знаю и очень высоко ценю.
— Только однажды за очень длительное время мне представилась возможность сделать толчок в правильном направлении, по крайней мере я считаю его правильным. Быть королем вообще очень странное занятие, Джозеф. Никогда не соглашайся на это.
— Боюсь, что уже поздновато, даже если бы я захотел.
Он что-то поправил в игрушке.
— Подлинное мое предназначение — это не дать тебе сойти с ума.
— Что?
— А что такого? Ситуационный психоз — профессиональное заболевание глав государств. Мои предшественники по королевскому ремеслу, те, кто действительно правил, почти все были немножечко не того. А возьми к примеру хотя бы ваших американских президентов: их положение иногда требовало, чтобы их убивали еще во время первого срока. А вот мне не нужно ничем управлять: для этого у меня есть профессионалы вроде тебя. Но и ты не испытываешь гнетущего влияния власти: тебе или кому-нибудь еще в твоей шкуре можно тихонечко уйти, пока дело не приняло совсем уж плохой оборот. А в это время старый Император — он почти всегда «старый», потому что мы восходим на трон тогда, когда прочие люди уходят на пенсию — Император всегда тут как тут, олицетворяя собой преемственность власти, символизируя собой государство, в то время как вы, профессионалы, заняты тем, что выбираете нового на место прежнего. — Он печально моргнул. — Моя работа, конечно, не такая уж увлекательная, но полезная.
Потом он еще немного порассказал о своих игрушечных поездах, и мы вернулись в кабинет. Я решил, что теперь-то уж он отпустит. Действительно, он сказал:
— Наверное, тебе пора снова браться за работу. Перелет был, наверное, довольно тяжелым?
— Да нет, не очень. Я все время работал.
— Так я и думал. Кстати, кто вы такой?
Потрясения бывают разные: полисмен внезапно хлопает вас сзади по плечу, вы делаете шаг по лестнице, а следующей ступеньки нет, ночью вы вываливаетесь из кровати во сне, муж вашей любовницы внезапно возвращается домой. Я бы предпочел сейчас испытать любые из этих потрясений в любой комбинации, только бы не слышать этого простейшего вопроса. Я изо всех сил постарался сделаться еще более похожим на Бонфорта.
— Сир?
— Да перестаньте, — нетерпеливо отмахнулся он, — сами понимаете, что моя работа предоставляет мне и кое-какие привилегии. Просто скажите мне правду. Я уже примерно час назад догадался, что вы не Джозеф Бонфорт, хотя вы могли бы провести и его собственную мать. У вас даже жесты точь-в-точь как у него. Но кто же вы такой?
— Меня зовут Лоуренс Смайт, Ваше Величество, — понуро ответил я.
— Не теряйте присутствия духа, милейший. Если бы я захотел, то мог бы позвать стражу давным-давно. Вас случайно послали не для того, чтобы убить меня?
— Нет, сир. Я ваш верноподданный.
— Странная манера выражать преданность своему монарху. Ну хорошо, налейте себе еще, садитесь и все мне расскажите.
И я рассказал ему все, абсолютно все, до самой последней подробности.
На это ушло значительно больше одного стакана, и в конце рассказа я чувствовал себя значительно лучше. Он страшно рассердился, когда я рассказал ему о похищении, но когда я описал ему, что похитители сделали с сознанием Бонфорта, гневу его не было предела. Он разъярился так, что даже лицо его потемнело.
Наконец он тихо спросил:
— Так значит он все-таки придет в себя через несколько дней?
— Так утверждает доктор Кэпек.
— Не давайте ему работать, пока он не выздоровеет полностью. Это просто бесценный человек. Да вы и сами прекрасно это знаете. Он один стоит шести таких, как вы и я вместе взятые, так что продолжайте свою игру до тех пор, пока он не поправится. Он нужен Империи.
— Да, сир.
— Перестаньте вы твердить «сир» да «сир». Раз уж вы замещаете его, так называйте меня просто «Виллем», как он. А знаете, как я раскусил вас?
— Нет, си… нет, Виллем.
— Он звал меня Виллем уже лет двадцать. Мне сразу показалось странным, что он перестал называть меня по имени в личной беседе, хотя бы даже и по официальному делу. Но тогда я еще ничего не заподозрил. Но хотя ваша игра и была совершенной, она навела меня на кое-какие мысли. А когда мы пошли смотреть мои поезда, я убедился окончательно, что передо мной другой человек.
— Прошу прощения. Но почему?
— А потому что вы были вежливы, друг мой! Я и раньше имел обыкновение показывать ему свои игрушки, и он всегда становился просто груб, считая это совершенно непотребным времяпровождением для взрослого человека. Это всегда превращалось в целое маленькое представление, от которого мы оба получали большое удовольствие.
— О! Я не знал этого.
— Откуда вам знать?
Тогда я еще подумал, что должен был знать, если бы не это проклятое полупустое фэрли-досье… И только позже я понял, что досье четко выполняло свою функцию, в полном соответствии с теорией, которая лежала в основе всего этого фэрли-архива. Ведь архив должен был дать возможность известному человеку помнить о менее известных людях. Но ведь именно таким Император и не был, я хочу сказать, менее известным.
Конечно же, Бонфорту и не требовалось заносить в досье сугубо личные сведения о Виллеме. Да он скорее всего счел бы просто непорядочным иметь заметки интимного свойства о своем монархе, куда мог сунуть нос любой из его клерков. Я не понял совершенно очевидной вещи, хотя, даже, если бы я и понял ее, досье от этого полнее не стало.
А Император тем временем продолжал:
— Ваша работа просто изумительна. И после того, как вы рискнули провести марсианские гнезда, я не удивлюсь, что вы решили обвести вокруг пальца и меня. Скажите, мог я когда-нибудь видеть вас по стерео или еще где-нибудь?
Когда Император захотел узнать мое настоящее имя, я конечно же назвал себя; теперь же я довольно стыдливо назвал свой сценический псевдоним. Он сначала молча уставился на меня, затем воздел руки и воскликнул:
— Да что вы говорите?
Я был тронут.
— Так значит вы слышали обо мне?
![Роберт Хайнлайн - Двойная звезда [Двойник; Дублер; Звездный двойник; Мастер перевоплощений]](https://cdn.my-library.info/books/53249/53249.jpg)